Максим Франк-Каменецкий: "Если научное сообщество оказывается неспособным себя регулировать, его начинают регулировать извне"
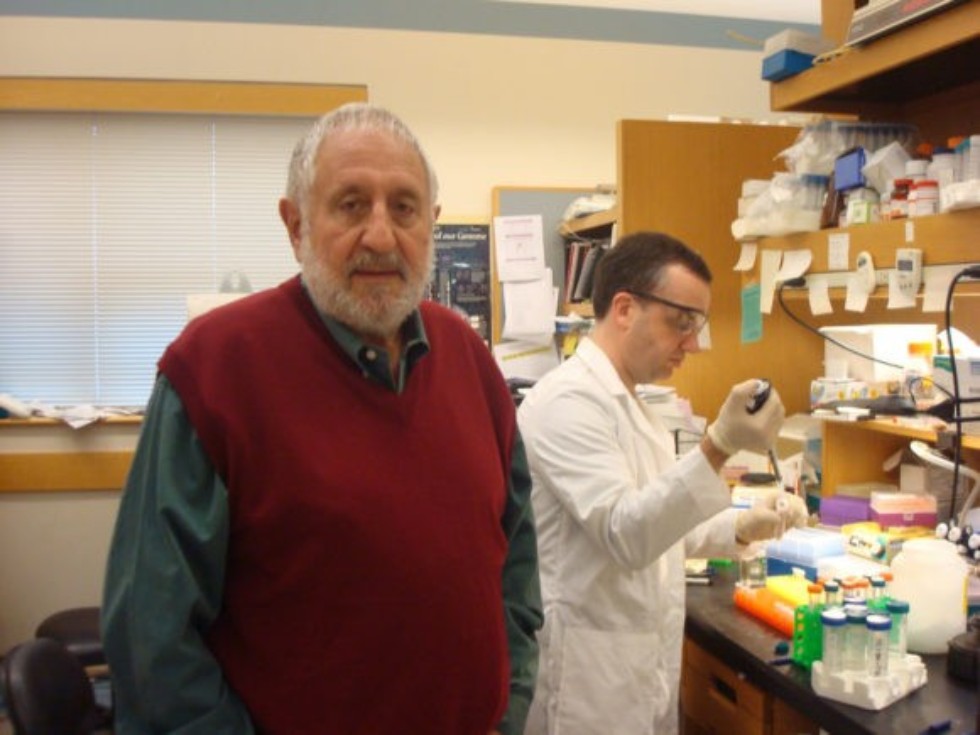
«Самая главная молекула» — книга об открытиях, связанных с ДНК, которую биофизик Максим Франк-Каменецкий пишет всю свою жизнь. О том, какие главы появляются в связи с новым научными открытиями - в сегодняшнем материале.
— Максим Давидович, ученые мирового уровня довольно редко занимаются популяризацией науки. Когда встает вопрос, на что потратить свое драгоценное время — добыть новые знания или понятно рассказать, что уже добыто, — как правило, большинство делают выбор в пользу первого. И их можно понять. Потому что время дорого. Но вы начали писать «Самую главную молекулу» в 1983 году, когда были на пике научной карьеры. С тех пор книга переиздавалась много раз. Почему вы стали заниматься этим тогда?
— Видимо, это наследственное: мой отец, выдающийся физик, много внимания уделял популяризации науки. Даже в последние годы, когда уже закончил свою деятельность в атомном проекте и мы переехали в Москву, до самой смерти он был заместителем главного редактора журнала «Природа». Фактически вел журнал. Можно сказать, что я потомственный популяризатор науки. Для этого нужно иметь драйв, хотеть поделиться с публикой тем, что ты узнал, что тебя восхищает, тогда найдется время при любой занятости.
— Как изменилась книга? Какие главы сюда добавила сама наука?
— Каждый раз, готовя новое издание (и русское, и английское), я добавлял, перерабатывал. Последнее издание, которое выпустило издательство «Альпина нон-фикшн», потребовало наибольшей переработки: сейчас наука о ДНК стремительно развивается — и иммунотерапия рака, и технология редактирования генома. Этих глав по понятным причинам не было в предыдущих изданиях. Пришлось об этом написать.
— Ученые в последние годы тратят много сил и времени, чтобы донести до широкой публики: не может быть универсальной таблетки от рака. Рак — это заболевание на уровне ДНК, вариантов этой болезни очень много. В главе, посвященной иммунотерапии рака, вы приводите недавний пример с бывшим президентом США Джимми Картером, у которого была последняя стадия меланомы с метастазами в мозге. Известно, что меланома — один из видов рака, который практически не поддается лечению, тем более с метастазами в мозге. Но через год, после иммунотерапии, 90-летний Картер объявляет, что у него нет метастазов и врачи признали его здоровым. Мы все наблюдали это чудо. Почему же иммунотерапия не работает как универсальный метод?
— До появления иммунотерапии диагноз «меланома» был практически смертным приговором. Однако иммунотерапия лучше всех действует именно на меланому. Меланома в IV стадии наиболее легко вылечивается с помощью этого метода.
— Почему иммунотерапия не работает во всех случаях раковых заболеваний?
— Чем серьезнее раковое заболевание, тем легче оно лечится иммунотерапией: больше раковых клеток, они сильно изменены, это значит, что у них очень много мутаций. Чем больше мутаций, тем успешнее иммунная система будет с ней бороться. Поэтому плохо подвергаются иммунотерапии те виды рака, которые вызываются малым количеством мутаций. Эти клетки трудноотличимы от здоровых клеток. А почему не все излечиваются, мы это еще не понимаем. Имеется множество факторов. Раковые клетки приспосабливаются к тому, как с ними борются. Есть такая статистика: даже в случае заболевания тем типом рака, который хорошо поддается иммунотерапии, все равно только 30% случаев излечиваются. Остальные требуют другого лечения. Поэтому актуальнейшей проблемой является определение на основе данных и последовательностей в геноме самого пациента, последовательности ДНК раковых клеток, других факторов, которые у этого пациента имеются, алгоритмов, которые позволили бы предсказать, будет ли иммунотерапия полезна или она не будет действовать… Если она не будет действовать, нужно использовать другие методы: химиотерапию и так далее.
— Насколько хорошо мы можем предсказать, сработает иммунотерапия или нет?
— Над изучением этого вопроса многие сейчас работают. Возникает совершенно новая область так называемой персонифицированной медицины, когда к каждому пациенту и его раковому заболеванию относятся как к индивидуальному случаю. Это ближайшее будущее. Когда создадут платформу на основе информационных технологий и искусственного интеллекта, эти вопросы будут оптимально решаться на нашем уровне знаний, постепенно всё лучше, по мере того как будет накапливаться всё больше данных.
— Максим Давидович, в школе нам рассказывали, что у ДНК две спирали. Вы вошли в историю тем, что открыли трехспиральную ДНК. В 2012 году у человека была обнаружена четырехспиральная. Какую роль играют эти новые формы ДНК?
— Остальные структуры, кроме двойной спирали, играют гораздо меньшую роль. Несравненно меньшую. Вопрос, какую роль играют разные другие структуры, как H-DNA, которую мы открыли, или квадруплексы (это четверная спираль), в значительной степени остается открытым. Есть еще так называемая Z-форма ДНК, открытая Алексом Ричем, — не правая, а левая спираль. Имеются структуры, отличные от канонической двойной спирали Уотсона — Крика. Их роль в клетке не очень ясна до сих пор. Но не стоит недооценивать степень нашего невежества в молекулярной биологии. Поэтому никогда не говори «никогда». Если сейчас еще нет важных применений этим необычным структурам, они могут появиться в любой момент.
— В вашей книге есть часть, которая называется «Опасна ли генная инженерия?», о том, как драматически развивалась эта область, как она столкнулась в обществе с разного рода фобиями, как в 1975 году был введен запрет на работы по генной инженерии. Через год запрет был снят, но накал страстей не угас. Вопросов и страхов всё больше. Вспомним скандальную историю, связанную с Хэ Цзянькуем, китайским ученым, который «отредактировал» ДНК двух девочек. Почему это вызвало острое неприятие коллег и авторов технологии редактирования генома, которую он использовал?
— Он нарушил все правила. Он же работал с людьми, а не в сельском хозяйстве, где традиционно применяется редактирование генома. Эта технология позволяет манипуляции с геномом человека, но никто этого не делал и делать не собирался. Есть правила, которыми научное сообщество саморегулируется.
Вас же не удивляет, что человека до сих пор не клонировали? Кажется, уже всех проклонировали, но только не людей! Было несколько сообщений, но все эти утверждения делались шарлатанами. Этот китаец не шарлатан, но он нарушил все нормы. Страшно опасно для научного сообщества, когда оно не может себя регулировать. Потому что, если научное сообщество оказывается неспособным себя регулировать, его начинают регулировать извне, вмешивается правительство. Больше всего исследователи боятся именно этого. Когда ученых регулируют на уровне университета или института, в котором они работают, — это нормально, так должно быть, это необходимо. Когда их начнут регулировать сверху, им будут диктовать, что можно, чего нельзя. И диктовать уже будут люди, ничего в этом не понимающие. Поэтому пусть соблюдение правил будет регулироваться на уровне университета или института, там этим занимаются коллеги. А то, что сделал китайский ученый, преждевременно и неоправданно.
— Что вы имеете в виду, когда говорите «преждевременно»? Что значит «сейчас мы готовы», «сейчас мы не готовы»? Кто это определяет?
— Определяют сами ученые, научное сообщество, коллеги исходя из того, какие у нас есть основания опасаться, что данная процедура приведет к неприятным последствиям, что эти девочки заболеют раком очень рано. Что технология, которую он использует, поменяла ДНК не только там, где он хотел поменять, но и совершенно в другом месте. Она же не 100% специфичная. Разрезание ДНК — очень опасный процесс для молекулы. Нужно быть уверенным, что нигде в другом месте это не произошло. Для того чтобы это всё знать, нужно гораздо больше исследований, чем имеется сейчас.
— Значит, проблема этики его поступка вторична, а дело в том, что он провел редактирование в тот момент, когда оно не до конца безопасно. Но когда это станет технологически безопасно, когда мы точно будем знать, что только в одном месте вносим изменения, это будет означать, что человечество дозрело?
— Я не могу предсказать, что потребуется для того, чтобы мы начали это делать в более широком масштабе. Это слишком сложный вопрос.
— Но ведь эта история с Хэ Цзянькуем заставила говорить в очередной раз не только о проблемах этических, но и о самом феномене китайской науки. Она развивается в государстве с очень специфическим устройством общества. Что из этого последует?
— Это очень опасно. В Советском Союзе была программа бактериологического оружия, хотя СССР подписал договор с Америкой, что разработки бактериологического оружия не будет. Однако программа была огромной и технически успешной. Чрезвычайно опасно, когда тоталитарная страна имеет высокие технологии. Как в СССР, в Китае сейчас однопартийная система, нет политической конкуренции. Сегодня китайская наука развивается замечательно. Они уже достигли паритета с Америкой по количеству научных публикаций. Они вкладывают в науку громадные деньги. Вопрос в том, пойдут ли они по пути СССР, где была огромная секретная часть, в частности в биологии.
— А когда вы работали в СССР, вы знали о программе, связанной с бактериологическим оружием?
— Я знал, что она есть, потому что мои студенты уходили туда. Но я не знал, что она успешна. Я заведовал кафедрой в Физтехе. Когда мои ученики шли в тот проект, я считал, что это обман. Я думал, что мои коллеги говорят власти: «мы вам сделаем бомбы, начиненные сибирской язвой и т. д., нужно только молекулярную биологию развивать», а на самом деле занимаются молекулярной биологией в секретном месте. После развала СССР оказалось, что система секретных институтов прекрасно работала. Люди, которые там проводили исследования, всё рассказали. Я читал об этом у Кена Алибека, который был одним из руководителей этого громадного проекта, разбросанного по всему СССР. В книге рассказано, как начиняли бомбы вирусами и бактериями, как научились при взрыве сохранять живыми вирусы и бактерии, как проводили испытания. Они накупили в Африке обезьян и успешно их убили этими ракетами. Этих фактов сегодня никто не отрицает. Что происходит в Китае сегодня в этом смысле, мы не знаем. Впрочем, что происходит сейчас в России, я тоже не знаю.
— Вы, как я понимаю, и по научным, и по идеологическим соображениям никогда в такого рода проектах не участвовали?
— Никогда. Да меня никогда и не взяли бы в такой проект, потому что я никогда не был политически благонадежным.
— Да, вы были слишком политически неблагонадежным! В одном из своих воспоминаний вы приводите эпизод, как в 1970 году на международной конференции в Институте общей генетики увидели, что Андрей Дмитриевич Сахаров вышел и на доске написал призыв к участникам конференции выступить в поддержку Жореса Медведева. Его в то время принудительно отправили в психиатрическую больницу. Вы вспоминаете, что академик Николай Дубинин, который вел секцию, отказался последовать призыву Сахарова, потому что «на научной конференции занимаются наукой, а не политикой». А как должен был поступить Дубинин в этой ситуации? Хотели бы, находясь в том зале, чтобы присутствующие поддержали инициативу Сахарова и совершили административное харакири?
— Я не уверен, что это было бы харакири. Непонятно, насколько было бы неприемлемо для властей, если бы группа ученых выступила в защиту. Может быть, они могли бы помочь, не сильно навредив себе. Я не знаю… У меня таких расчетов никогда не было. Я всегда делал то, что надо, не думая о последствиях. Если передо мной такая дилемма стояла. Я помню, как получил от Сахарова письмо 1 мая 1985 года, где он писал, что голодает и что власти начали принудительное кормление. А в это время о нем ничего нигде не было известно. Когда я получил это письмо, передо мной не стоял вопрос, передавать письмо на Запад, как он просил, или не передавать. Я это сделал. С большим риском, но сделал. Считаю, что каждый сам для себя решает. Я не могу никому ничего диктовать. Но сам всегда делал то, что надо, не думая о последствиях, если передо мной такая дилемма стояла. И даже избежал психушки или чего-то худшего. Может быть, просто повезло?..